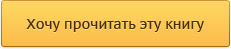На следующий день на уроке закона божия отец Михаил рассказал ученикам весь эпизод фальшивого купона и сказал, что это сделал гимназист.
— Поступок дурной, постыдный, — сказал он, — но запирательство еще хуже. Если, чему я не верю, это сделал один из вас, то лучше ему покаяться, чем скрываться.
Говоря это, отец Михаил пристально смотрел на Митю Смоковникова. Гимназисты, следя за его взглядом, тоже оглядывались на Смоковникова. Митя краснел, потел, наконец расплакался и выбежал из класса.
Мать Мити, узнав про это, выпытала всю правду у сына и побежала в магазин фотографических принадлежностей. Она заплатила двенадцать рублей пятьдесят копеек хозяйке и уговорила ее скрыть имя гимназиста. Сыну же велела все отрицать и ни в коем случае не признаваться отцу.
И действительно, когда Федор Михайлович узнал о том, что было в гимназии, и призванный им сын отперся от всего, он поехал к директору и, рассказав все дело, сказал, что поступок законоучителя в высшей степени предосудителен и он не оставит этого так. Директор пригласил священника, и между им и Федором Михайловичем произошло горячее объяснение.
— Глупая женщина вклепалась в моего сына, потом сама отреклась от своего показания, а вы не нашли ничего лучшего, как оклеветать честного, правдивого мальчика.
— Я не клеветал и не позволю вам говорить так со мной. Вы забываете мой сан.
— Наплевать мне на ваш сан.
— Ваши превратные понятия, — дрожа подбородком, так что тряслась его редкая бородка, заговорил законоучитель, — известны всему городу.